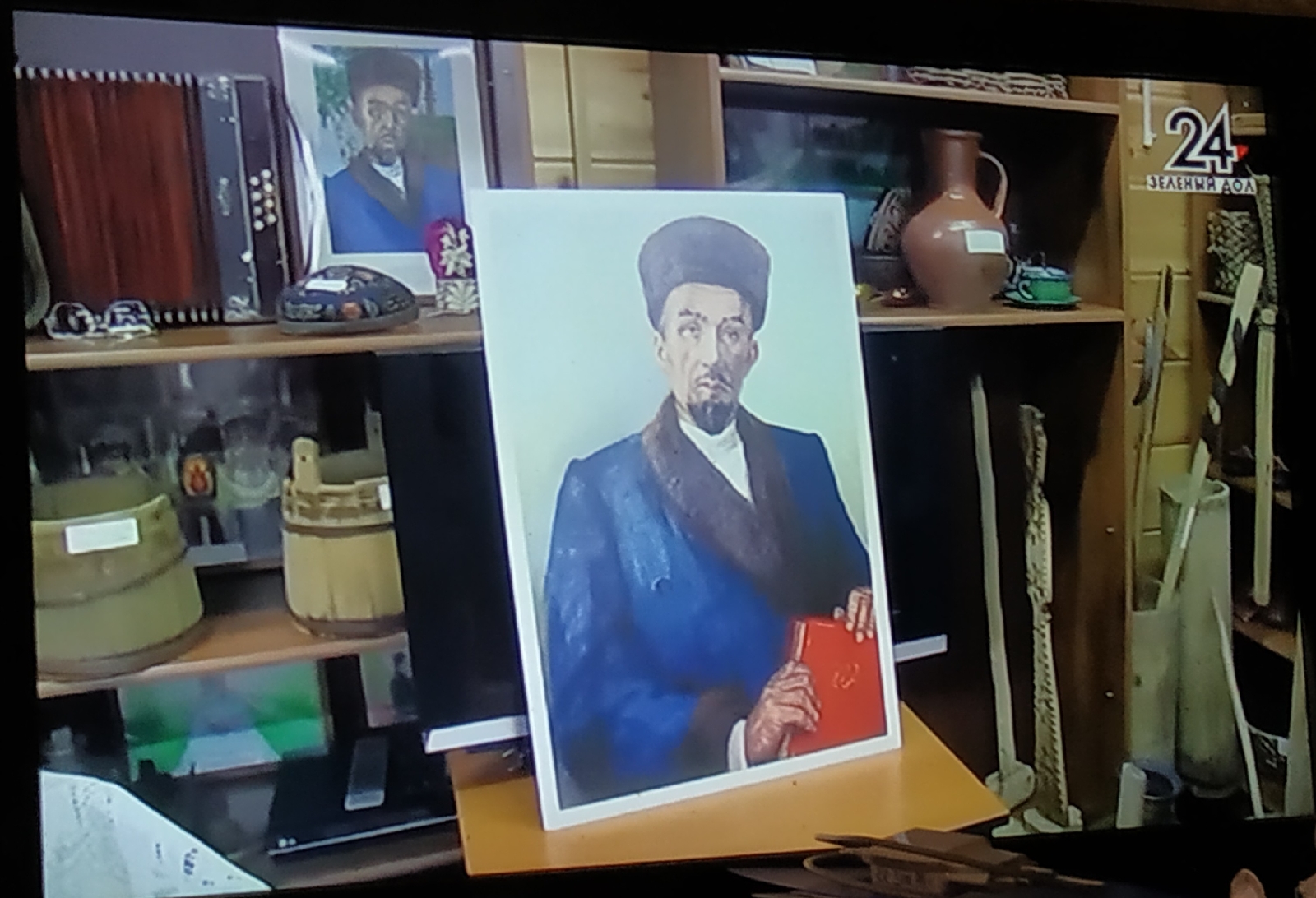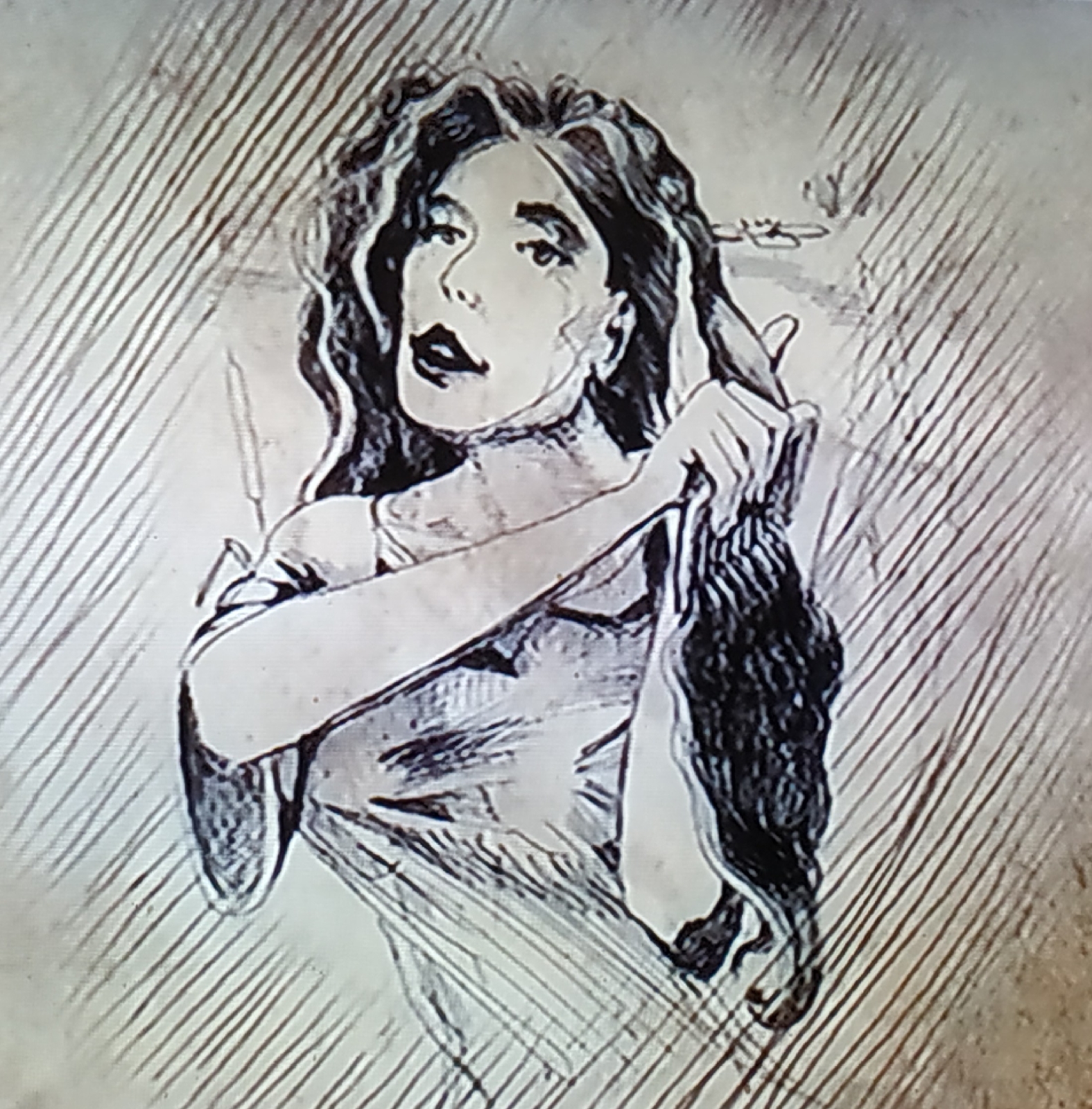О жизненных трудностях, которые приходилось преодолевать Каюму Насыри на пути к просветительской деятельности, рассказал поэт Зульфат в своём стихотворении "Каюм". Языческий бог Тенгри у древних тюрков после принятия ислама стал синонимом слова "Аллах". "Невежество от Бога, – часто приходилось слышать Каюму Насыри от недоброжелателей, – никому не нужна просветительская работа и ни к чему образование народу". С этим К.Насыри, конечно, не мог согласиться, никакие угрозы на него не действовали, в этом плане он был совершенно неустрашим.
Зульфат. Каюм
Народу, позабытому во мгле,
Не ждать от солнца утренней зари.
Любому тяжко на такой земле,
Но хуже всех – "Слепому Насыри",
Не пишет, а щепит лучину он,
Как самоварных мальчиков глава.
Но не от щепок
Искры в небосклон –
То ярко загораются слова!
Кровь от заноз и ссадин –
Ручейком...
Он трудится
Не покладая рук.
Грозят ему и явно, и тайком
Невежды
Под набатный перестук:
– Иль ты забыл,
Что темень – от Тенгри?
Слепой вероотступник!
Ну, смотри!..
(Перевод с татар.)
В поэме Зиннура Мансурова отображён такой эпизод, случившийся в жизни учёного: одно научное общество обратилось к Каюму Насыри с предложением сфотографироваться. Старый, уже парализованный, полуслепой Каюм тогда отказался: "Когда я голодал, никто даже не интересовался, как я живу, а теперь уже поздно...".
Зиннур Мансуров
***
... Суровый, мудрый Кул Гали
через века мне говорит:
"Художник, как Аллах,
достоинством велик.
Портретам не принадлежит.
Хоть славен лик,
но мыслью дорожит.
А свечка – догорит...".
Канкаев Бахтияр
совет мне приберёг:
"Живой в легенде разве мёртв,
когда шумит народ.
На что лицо твоё –
и так полно бород...".
Английский энциклопедист
писал когда-то Марджани:
"Почтенный муж!
Хоть снимочек один
для тома одолжи.
Каков ты есть –
и люди знать должны...".
А Марджани до старости хитёр,
шлёт бандерольку до сих пор...
Вот тут и Насыри Каюм
вступает в разговор:
"Останься при себе,
на что поэту вздор –
изображения плодить.
Бери пример с меня:
охранка сбилась с ног
средь бела дня.
А снимочка-то нет!
Я – в массе, я – в толпе.
Скрывайся – мой совет тебе...".
(З.Мансуров. Огонь, или Страницы из летописи войны Хайрутдина Музая. Перевод с татар.)
В своей деревне Малые Ширданы Каюм Насыри когда-то вырыл колодец. Сам по себе этот факт может говорить о просветителе как о человеке деятельном, жаждущем жизни, включённом в неё и стремящемся раскрыть секреты и тайны мироздания. Колодец тот сохранился до наших дней и тщательно оберегается сотрудниками музея и жителями деревни.
Этот факт из биографии учёного в 1997 году вдохновил казанскую поэтессу Эльмиру Шарифуллину на написание поэмы "Колодец Каюма". Поэма, видимо, не опубликована. Подстрочный перевод отрывка из поэмы, выполненный дочерью автора – Раушаниёй Шафигуллиной, бывшей директором казанского музея К.Насыри, приводит в своём исследовании "Возвращение к истокам" Е.Л. Яковлева (К., 2016).
Пройдя века –
сохранился колодец Каюма.
В то время, как свой путь
потеряли столько родников,
затерялись самые полноводные...
Сохранился живым колодец –
словно таинство,
память
родословного древа Насыровых,
лучезарность святых деяний,
канон благовоспитанности,
нравственности.
И сегодня
бьёт его могучий родник...
Святому делу верные его земляки
обновляли колодезный ворот,
обновляли-восстанавливали,
и умиротворённо
ходили к колодцу за водой.
Его живая вода,
словно знания,
вытекает из земли Ширдан...